-
03.04.2006, 13:30 #1
 Тактовая система музыкальной ритмики
Тактовая система музыкальной ритмики
Напоминаю ссылку на одну из самых известных статей Мирона Григорьевича Харлапа "Тактовая система музыкальной ритмики" ("Проблемы музыкального ритма: Сборник статей" Сост. В.Н. Холопова, М., "Музыка", 1978, с. 48-104):
О ритмике Бетховена он написал чуть проще, но ее нет в сети: Харлап М.Г. Ритмика Бетховена. В кн.: Бетховен. Сборник статей. М., 1971
Хорошо известно, что акцент может перемещаться с сильной доли на слабую, что он может быть как метрическим, так и неметрическим. Известно также, что "метрическое" исполнение, подчеркивающее начало каждого такта, в большинстве случаев противоречит художественным требованиям, что фразировка вносит свою акцентуацию, не совпадающую с метрической. Различие между метрическими и неметрическими ударениями не сводится к тому, что первые правильно повторяются (и поэтому ожидаются заранее),вторые же нарушают эту повторяемость и могут быть неожиданными. В музыке возможны перемены размера, среди тактов (одного размера встречаются иногда единичные такты другого размера. Размер может даже непрерывно меняться, как в Поэме Скрябина ор. 52 № 1, где на 49 тактов приходится 42 перемены размера и только в шести случаях последующий такт совпадает по размеру с предыдущим. С другой стороны, неметрические акценты могут повторяться довольно регулярно. Так, в финале Седьмой симфонии Бетховена в довольно больших кусках ударение регулярно падает на вторую, слабую долю такта. В I части Героической симфонии во многих местах чередование акцентированных и неакцентированных четвертей образует двухчетвертной ритм, противоречащий трехчетвертному размеру.
В учебнике элементарной теории музыки И.В. Способина такт определяется как "отрезок музыкального произведения, который начинается с тяжелой доли и кончается перед следующей тяжелой долей". Это определение удобно тем, что оно охватывает и неравные такты (как по метру, так и по реальной длительности). Но здесь мы снова попадаем в порочный круг: "тяжелая доля" сама должна быть определена через понятие такта, ибо именно начальное положение в такте отличает ее от других видов акцента. Тем самым определение превращается в тавтологию: такт есть отрезок музыкального произведения от начала-такта до начала следующего такта.
В результате от первоначального представления о такте не остается камня на камне, он оказывается лишенным всех своих признаков, и мы вправе усомниться в его реальном существовании. Действительно, многим музыкантам, утратившим в практическом общении с музыкой детскую веру в такт и не получившим от теории ничего взамен, такт представляется лишь вспомогательным средством для записи музыки или же некой фикцией, нужной только для начинающих и их учительниц, но совершенно излишней для "свободного художника". Стоящие на такой точке зрения, конечно, не задаются вопросом, чему помогает это вспомогательное средство и в чем педагогический смысл этой фикции, зачем начинающим нужно усваивать представления, которые впоследствии должны быть отброшены. Трудно допустить, чтобы фикция могла с таким упорством держаться в нотном письме и в обучении музыке.
...
Греческое слово метр ("мера", "размер") вошло в теорию музыки в современном значении в Х1Х веке, будучи заимствовано из теории стиха, где оно означает совокупность правил, отличающих стихи ("метрическую", "мерную", "размеренную" речь) от прозаической речи. Такое заимствование было по существу возвращением собственного добра, ибо этот термин возник в Древней Греции на стадии, когда стихи еще не отделились от музыки и учение о стихотворных размерах - метрика - входило в теорию музыки, а не в поэтику. Но в течение долгого времени слово "метр" не применялось к музыке или же применялось в другом значении (по аналогии с античными стопами его относили к ритмическим фигурам, образуемым сочетанием различных длительностей), хотя соответствующие слова новых языков (итал. misura, франц. mesure), применявшиеся к стихам как синонимы метра, обозначали также музыкальный такт. Перенесение в теорию музыки греческого слова, ставшего стиховедческим термином, исходило, очевидно, из предположения, что между музыкальным и стихотворным размерами существует глубокая аналогия.
Итальянское и французское названия такта, происходящие от лат. mensura - "мера", возникли еще в средние века, когда мензуральная ("размеренная") музыка с твердо установленными длительностями нот противопоставлялась свободному ритму григорианского хорала. При исполнении мензуральной музыки тактирование с постоянным междуударным промежутком времени (в типичном случае соответствовавшим нормальному пульсу) играло роль живого метронома и давало удобную единицу измерения всех длительностей. Но такая роль такта стала значительной в особенности в конце мензуральной эпохи или, вернее, в переходную эпоху между мензуральной и тактовой ритмикой. В ранней мензуральной музыке, до ars nova и даже еще до проникновения ее в церковное многоголосие, в том виде, в каком она сложилась в светской одноголосной песне французских и провансальских поэтов-певцов XI-XIII веков, размеренность отнюдь не сводилась к наличию единицы измерения или "меры" в виде примитивного такта.
Называя стихи мерной или размеренной речью, мы понимаем меру не как внешнюю единицу, служащую для измерения предметов, существующих независимо от нее, подобно тому, как можно измерять рост человека в метрах и сантиметрах или измерять по часам (хронометрировать) время, занятое каким-либо" процессом. Размеренность в стихах заключается в том, что они построены в соответствии с определенной мерой, которая дана заранее в качестве правила, или нормы. Правильность чередования сильных и слабых слогов в стихе, возвращения межстиховых пауз через определенное число слогов или ударений и т. п. есть подчинение определенным правилам, а не физическая или физиологическая закономерность, подобная возвращению через равные промежутки одних и тех же фаз в движениях маятника, в нормальном пульсе, дыхании, ходьбе. Тенденция к такой физиологической правильности наблюдается и в обычной речи. Как и всякая мускульная работа, произношение стремится, если этому не противодействуют эмоциональные факторы, к автоматической правильности, к равенству элементарных фразировочных единиц (колонов), связанному с дыханием (колоны иногда называют "дыхательными группами"), и, в особенности, к равенству расстояний между ударениями (подобно пульсу и шагу). Сюда относится и тенденция несколько усиливать неударные слоги через один (принцип альтернирования, особенно ярко проявляющийся в тех языках, где обязательное ударение на крайнем слоге-первом, как в чешском, или последнем, как во французском, способствует образованию длинных рядов неударных слогов). Стихотворный размер от всех этих физиологических тенденций (при некотором внешнем сходстве) отличается тем, что он выступает как художественное задание, которое может быть осознано в виде нормативной теории. Конечно, не только те, кто читает и слушает стихи, но и те, кто их сочиняет, могут не знать этой теории, усвоив интуитивно, "на слух" критерий, отличающий правильные стихи от неправильных, подобно тому, как правильно говорящий на своем родном языке и безошибочно отличающий грамматически правильную фразу от неправильной может не знать грамматики этого языка. В обоих случаях существование определенных норм не подлежит сомнению.
Метрические правила относятся к ритмической стороне речи - к произносимым и слышимым акцентам и членениям. Стихи отличаются от прозы тем, что их ритм подчиняется этим правилам, тогда как в прозе он свободен от них и зависит лишь от синтаксического строения речи или же от эмоционального содержания. Первое особенно характерно для письменной прозы, второе преобладает в устной речи. В стихах членение и акцентуация регулируются метром - ритмической схемой, которая может единообразно выдерживаться при разнообразном словесном наполнении. Метр, таким образом, оказывается своего рода прокрустовым ложем, устанавливающим строго определенную величину речевых отрезков между паузами - стихов, или строк, в соответствии с заданным образцом.
Возможность такой операции с текстом, имеющим свои собственные членения по смыслу, обусловлена тем, что даже при чтении письменной прозы интеллектуального типа, где ритмическая форма служит для выявления смысловых границ, ритмическое деление не полностью совпадает с синтаксическим, слышимые и произносимые "знаки препинания" могут отклоняться от написанных. Основной причиной этих отклонений является физиологическая тенденция к равномерности, о которой говорилось ранее. Чем ниже мы спускаемся по иерархии синтаксических единиц, тем сильнее проявляются такие отклонения. Точка и другие знаки препинания, завершающие целое высказывание, всегда выражены и в произношении ритмической завершенностью. Но внутренние членения высказываний в синтаксическом разборе и в произношении могут не соответствовать друг другу: сложное предложение, если оно коротко, может быть произнесено слитно, простое распространенное предложение может быть в произношении расчленено на две части - восходящую (протазис) и нисходящую (аподозис); при этом, если эти "ритмические (ритмико-интонационные) предложения" действительно являются простыми грамматическими предложениями внутри сложного, нет необходимого соответствия между главными и придаточными предложениями, с одной стороны, и восходящими и нисходящими частями фразы-с другой. С таким же различием двух принципов членения мы встречаемся и в наименьших обособляемых в произношении речевых единицах-колонах (дыхательных или интонационных группах). Многие лингвисты (вслед за Л.В. Щербой) называют эту единицу синтагмой - грамматически объединенной группой слов внутри предложения, против чего справедливо возражал в свое время Б. В. Томашевский (Томашевский Б. В. Ритм прозы. В кн.: Томашевский Б. В. О стихе. Л., 1929). Отличительным признаком колона является интонационная граница, возможность сделать паузу и взять дыхание; хотя дыхательная пауза и не обязательна между колонами, но по величине и структуре - они тесно связаны с дыхательным ритмом. Конечно, границы между колонами должны быть и смысловыми границами и поэтому зависят от синтаксического строения, но не определяются им однозначно; присущее тексту синтаксическое членение допускает при произношении некоторую свободу выбора фразировочных вариантов.
Того же типа различие, какое имеется между синтагмой и колоном, существует и между словом и его фонетическим выражением - акцентной группой (группой слогов, объединяемой ударением). Служебные слова часто не имеют ударения и включаются в акцентную группу соседнего значащего слова, в сложном слове части могут сохранить собственное ударение; таким образом, "фонетическое слово" может быть как больше, так и меньше словарного ' (в этом отношении между языками имеются значительные различия: во французском языке акцентные группы обычно длиннее, чем слова, в немецком - короче). "Словоразделы" произносимой речи отнюдь не совпадают с графическими границами слов и могут быть вообще не слышны; определяющим признаком акцентной группы является наличие ударения, а не границ. В немецкой фонетике существует точка зрения, что а ритмическом отношении речь делится не на слова, а на "речевые такты", начинающиеся с ударения, например, фраза "Wo sind die Gefangenen?", по Сиверсу, состоит из двух тактов: wosindige \ fangenen (Sievers E. Grundzuge der Phonetik, Aufl. Lpz., 1901, S. 623). Эту теорию применяли и к русскому языку (А.И. Томсон, А.М. Пешковский), хотя в русском языке нет свойственной германским языкам тенденции ставить ударение на начальном слоге, вследствие которой в тех словах, где имеются предударные слоги, эти слоги ради ритмического единообразия присоединяются к предыдущему слову. В таких случаях чисто ритмическая, артикуляционная группировка может, полностью отделиться от смыслового членения, что проявляется еще ярче внутри слова, где слоговое деление никак не связано с грамматическим делением на корень, приставки, окончания и т. п. Теория группировки слогов в "такты" представляет для нас особый интерес своей музыкальной аналогией, к которой нам еще придется вернуться.
В любой прозаической речи мы можем отличать от грамматического, собственно языкового строения произносимую и звучащую ритмическую форму (фразировочную, интонационную, артикуляционную), в какой-то мере сближающуюся с музыкой, и прямо связывающую с ней словесный текст в вокальной музыке. Но если в письменной интеллектуальной речи ритмическое членение отклоняется от синтаксического только под влиянием физиологических условий произношения, то в устной эмоционально окрашенной речи ритмическая форма играет самостоятельную роль, часто более значительную, чем роль синтаксических норм. Противопоставление этих типов очень существенно для понимания художественного значения стихотворного размера.
К двум принципам членения - звуковому (ритмическому) и смысловому (синтаксическому) - в стихах присоединяется метр - заданная ритмическая схема. Относясь к звуковой стороне речи, метр, подобно смысловому строению, заключен в самом тексте, и звучащий ритм стиха, таким образом, оказывается результан-той взаимодействия двух текстовых структур - синтаксической и метрической. На ранних стадиях развития стиха (долитературных, чисто фольклорных) ритмическое задание выражается в выборе соответствующих этому заданию синтаксических конструкций (См.: Харлап М. Народно-русская музыкальная система и проблема проблема происхождения музыки (гл. 2-"Русское народное стихосложение"). - В кн.: Ранние формы искусства. М., 1972); в литературных формах стиха метр членит речь на особые единицы, определяемые метрическими правилами и предустановленной величиной (мерой), а не синтаксическим строением, и выделяемые в записи специфическими стиховыми знаками препинания - делением на строки, группировкой строк в строфы и т. п.
Существуют различные системы стихосложения, отличающиеся друг от друга правилами, определяющими величину и структуру метрических единиц. Величина стиха может быть измерена занимаемым им временем, числом слогов или ударений, правила стихосложения могут регулировать последовательность долгих и кратких или ударных и неударных слогов, различные звуковые повторы (рифма, аллитерация) и т. п. Обычно считают, что выбор той или иной системы определяется языком, хотя одна и та же система может существовать в неродственных языках и различные системы могут быть свойственны близким языкам и сменять друг друга в одном и том же языке. При всех языковых различиях стиховые системы, свойственные поэзии нового времени, силлабическая, силлаботоническая и чисто тоническая - сходны в самых существенных чертах, и прежде всего в том, что в основе их лежит регулирование акцентов а не длительностей. В истории литературного стихосложения отчетливо выделяются два основных типа: (1) акцентный, "ритмический", или "квалитативный (качественный)", и (2) основанный на долготе "метрический", или "квантитативный, (количественный)", к которому, кроме античной метрической системы, принадлежат система арабского стихосложения (аруз), заимствованная персами, таджиками и некоторыми тюркскими народами, индийское стихосложение и др. В таком противопоставлении явно выступает различие не языков, а стадий развития стиха, различие историко-литературных условий, определяющих функцию метра, что, в свою очередь, определяет выбор метрообразующих средств и характер соотношений метра и синтаксического строения.
Квантитативное стихосложение возникает в условиях господства устной речи, когда поэзия, уже выделившись из фольклора и став профессиональным искусством, сохраняет устный характер и предполагает слушателей, а не читателей. На фоне устной речи метр выступает в своей основной роли, упорядочивая речь и подчиняя ее мере - одному из главных принципов античной эстетики. Размеренность выражается здесь в наиболее чистом виде - в соразмерности временных отрезков. Метрическая схема в квантитативном стихосложении - это определенная последовательность длительностей, которая может быть отвлечена не только от конкретного текста (как и всякая схема стихотворного размера), но и от речи вообще, ибо образующие эту схему длительности могут быть заполнены как долгими и краткими слогами, так и музыкальными звуками и танцевальными движениями. Сама по себе эта схема должна быть отнесена к музыке, но в античном понимании этого слова - к "искусству муз" (богинь пения и танца), включающему в себя, наряду с пением, инструментальную музыку и декламируемые стихи (как боковые ветви, подчиняющиеся тем же ритмическим законам, что и вокальная музыка). Метрическое стихосложение принадлежит эпохе, когда поэзия еще неразрывно связана с музыкой и стих есть музыкальная форма поэзии, но, в отличие от первоначального фольклорного синкретизма с его интонационным ("свободным, или несимметричным") ритмом, музыка здесь уже размерена, то есть соотношения длительностей в ней четко определены. Для стихов эти соотношения являются как бы рамой, в которую вписывается словесный текст, и правила стихосложения сводятся к способам такой "подтекстовки". Если в языке различаются долгие и краткие слоги, то именно эти количественные различия существенны для стихосложения, согласующего слоговые длительности с музыкальными. Эти различия позволяли также при записи вокальной музыки обходиться без обозначений длительности (хотя в греческой нотации такие обозначения были), стиховой текст играл роль мензуральной нотации и давал достаточное представление об этой стороне музыки, даже будучи записан без напева. Речь могла служить для музыки естественной "мерой", но это было обусловлено пониманием самой речи как количества. "Что речь есть количество, это ясно: ведь она измеряется коротким и долгим слогом" (Аристотель. Категории. М., 1939, с. 14).
Этим объясняется, почему метрика, которая первоначально была посвященной размерам частью теории музыки, в эллинистическую эпоху стала учением о стихе, входящим в грамматику (но не в поэтику, куда метрика не входила ни во времена Аристотеля, ни в позднеантичные времена и куда теория стиха была включена лишь в Новое время). Отсюда же и встречающееся иногда (у филологов-классиков, фольклористов) представление о метре, как о специфически стиховом виде ритма. Р. Вестфаль, видевший в ритме только правильное маятникообразное чередование, а в стихотворном размере - частный случай такого чередования, определял метр как проявление ритма на материале поэтической речи, полагая, что он придает греческим терминам" "ритм" и "метр" то значение, какое они имели у древних греков. Однако если Аристотель говорит в "Поэтике" (гл. IV), что "метры - особые виды ритмов" (Аристотель. Об искусстве поэзии. М.., 1957, с. 49), то видовым отличием метра был для него отнюдь не речевой материал. В "Риторике" (III, он указывает, что ораторская проза "должна обладать ритмом, но не метром, так как в последнем случае получатся стихи" (Античные теории языка и стиля. М.-Л., 1936, с. 182). Такие высказывания, встречающиеся и у других античных теоретиков красноречия, свидетельствуют, что в древности, как и в наше время, метр понимался как предустановленный ритмический порядок, отличающий стихи от прозаической речи.
он указывает, что ораторская проза "должна обладать ритмом, но не метром, так как в последнем случае получатся стихи" (Античные теории языка и стиля. М.-Л., 1936, с. 182). Такие высказывания, встречающиеся и у других античных теоретиков красноречия, свидетельствуют, что в древности, как и в наше время, метр понимался как предустановленный ритмический порядок, отличающий стихи от прозаической речи.
Метрическое стихосложение оправдывает свое название тем, что метр в нем полностью подчиняет себе ритм стиха, его "течение" (буквальное значение слова "ритм"), акцентуацию и пунктуацию. Хотя в ритмической прозе античные теоретики так же уделяли много внимания конфигурациям долгих и кратких слогов, эти конфигурации связывались со смысловыми паузами, разграничивающими колоны и периоды. В стихах последовательность долгих и кратких слогов сама определяет разграничение, причем не только границы стоп не связаны с делением на слова, но и границы стихов и строф в античной поэзии приобрели значительную независимость от синтаксических делений. Полностью независимы от словесных акцентов, не имевших значения в квантитативном стихе, стиховые ударения, о которых мы, впрочем, знаем очень мало. Несомненно, они были связаны с делением стопы на две части - арсис и тезис, но отождествление этих частей с сильной и слабой долями оказывается несостоятельным. В одних случаях сильным моментом признается арсис, в других - тезис, и этот длительный спор может быть решен лишь признанием обеих частей равноправными, но различными по функции, аналогичными восходящей и нисходящей частям периода. (В этом смысле эти термины применены мною к основным ритмическим моментам в фольклорном интонационном стихе.) Во всяком случае, деление на арсис и тезис и акцентуация стиха зависели только от метрической формулы, хотя непосредственно в словесном тексте не были выражены и относились к собственно музыкальной стороне стиха. Поскольку "ритмом" в первую очередь назывались соотношения арсиса и тезиса по величине, мы как будто бы вновь приходим к противопоставлению музыкального "ритма" и словесного "метра", однако когда на исходе античности появились чисто речевые стихи, где акцентуацию определяло размещение словесных ударений, эти стихи, в отличие от классических "метров", получили название "ритмов".
В средневековой латинской поэзии сосуществуют сохраняемые в школьной традиции (хотя и лишенные своей музыкальной базы) метры и стихи нового типа, получившего полное развитие в новоевропейской поэзии - ритмы. Мы можем здесь оставить в стороне средневековое стихосложение на народных языках. Трубадуры, труверы и миннезингеры, подобно древнегреческим поэтам, были поэтами-певцами, у которых стихи отличались от прозы тем, что они пелись, а музыка была размеренной (мензуральной), но из-за отсутствия в таких языках, как французский и провансальский, количественных различий между слогами, эта размеренность не была выражена в словесном тексте так же определенно, как в античном стихе. Возникновение на этих языках литературы в современном понимании этого слова, существующей в виде книг и обращающейся к читателям, а не слушателям, привело к окончательному отделению стиха от музыки и формированию чисто речевых стиховых систем, которые в совокупности противопоставляются метрическому (квантитативному) стихосложению в качестве ритмического (квалитативного, акцентного) типа стиха. Стихотворный размер в этих системах основан не на измерении времени, а на счете собственно речевых единиц - слогов и словесных ударений. Большую роль играет здесь также рифма.
Отличие акцентного стихосложения от квантитативного отнюдь не сводится к тому, что (как это неоднократно утверждалось) его метрические нормы относятся к другим фонетическим элементам языка. Ударение играет в языке совершенно иную роль, чем долгота: оно служит для выделения в речевому потоке слов и, следовательно, тесно связано со смысловым членением речи, к которому долгота равнодушна, ибо в слове может быть как несколько долгих слогов, так и ни одного. В акцентном стихе значение смыслового строения возрастает, и это лишает метрическую схему господствующего положения, которое она занимала в квантитативном стихе. Вместе с тем изменяется и художественная функция метра (Подробнее о противоположности двух типов литературного стихосложения см.: Харлап М. О стихе. М., 1966, а также статьи в Краткой литературной энциклопедии: "Квалитативное (качественное) стихосложение" (т. 3. М., 1966), "Квантитативное (количественное) стихосложение" (там же), "Метр" (т.4,М., 1967)).
Динамизирующая функция метра сопряжена с потерей им того господства над ритмом, которое принадлежало ему в метрическом стихосложении. В стихах акцентного типа метр становится как бы аккомпанементом он отступает на второй план, который, однако, необходим именно для того, чтобы речь не была "плоской" (по выражению Некрасова), прозой. Метр играет здесь служебную роль, - он не представляет самостоятельного экстетического интереса, акцентные метрические формы по сравнению с квантитативными проще, однообразнее и ближе к автоматизированным физиологическим ритмам. Но чем беднее метр, тем больше возможности ритмического богатства и разнообразия.
В первую очередь это выражается в том, что метр, основанный на счете слогов или ударений, не определяет временных соотношений в стихах, предоставляя декламирующему стихи и сочиняющему на них музыку свободу выбора длительностей слогов и слоговых групп. Правильное чередование ударных и неударных слогов в русском классическом стихе неоднократно изображали в виде музыкальных тактов:

Однако если мы посмотрим, как этот образец правильного четырехстопного ямба (без которого, кажется, не обходится ни одна книга о русском стихосложении) положен на музыку Чайковским, мы увидим совершенно иную картину:

В данном случае можно пренебречь различиями между нотными и реальными длительностями, о которых речь шла выше, и рассматривать нотную запись как выражение реальных временных соотношений. Но отклонения реального времени от стихового, измеряемого слогами, стопами, стихами и т. п. (что не исключает изохронизма как частного случая), могут служить аналогией отклонениям (в музыкальном исполнении) реальных длительностей от нотной записи. Подобно тому, как в музыке метрическое "время" останавливается в фермате, которая может быть заполнена речитативной фразой или каденцией, не идущей в счет тактов, внутри стиха возможны не идущие в счет стихового времени паузы, иногда заполненные сценическим действием, музыкой и т. п. Так, у Пушкина в "Моцарте и Сальери" Моцарт два раза играет свои произведения, а в "Каменном госте" Лаура поет в середине стиха, причем обе части разорванного музыкой стиха образуют в сумме такой же правильный пятистопный ямб, как и всё остальные строчки "маленьких трагедий".
Силлаботоническая система (ставшая в русской поэзии классической) представляет для нас особый интерес. Правильное чередование сильных и слабых слогов, с одной стороны, напоминает о музыкальном такте, с другой - позволяет разделить стих на одинаковые слоговые группы, на которые были перенесены античное понятие стопы и названия различных стоп - ямб, хорей и т. д. Таким образом, именно этот вид чисто речевого стиха наиболее удобен для сопоставлений специфически стихового метра как со специфически музыкальным метром "Нового времени, так и с музыкально-стиховым метром античности.
Перенесение понятий античной метрики на новое стихосложение основано на том, что ударные слоги, обычно несколько удлиняемые в произношении, приравниваются к долгим слогам. Теоретики, установившие правила тонического (называемого в настоящее время силлаботоническим) стихосложения в Германии (XVII в.) и России (XVIII в), обычно называли сильные слоги долгими, а слабые - краткими. Так возникло убеждение, что в метрическом стихе стиховые ударения падали на долгие слоги (что отнюдь не было обязательно), а также смешение понятий, приводящее к тому, что в музыке одними и теми же античными названиями стоп обозначают как акцентные, так и квантитативные соотношения.
Сопоставляя новую метрику с античной, мы должны прежде всего отметить, что из всей богатой номенклатуры античных стоп Новое время заимствовало лишь пять названий в качестве "основных размеров (некоторые другие названия применялись иногда для ритмических видоизменений этих размеров). Школьная теория силлаботонического стиха знает стопы лишь из двух и трех слогов, тогда как в античной стопе могло быть четыре, пять и даже шесть слогов. Тоническая стопа - это группа слогов с одним сильным слогом. Поэтому только две из четырех двусложных стоп, возможных в квантитативном стихе, и три из восьми возможных трехсложных стоп находят соответствие в тонических стопах.
В новом стихосложении стопа относится только к метрической схеме, а не к реальному ритму стиха. Основной единицей стихотворной речи является стих, или строка, отделяемая паузами. Стопа - это единица отсчета, определяющего место межстиховых пауз, которая имеется лишь в том случае, если стих делится на равные единицы. В силлабическом стихе роль такой единицы играет слог - своего рода односложная "стопа" (французы иногда называют слоги в стихе "стопами"), в чисто тоническом стихе отсчет идет по ударениям и стих делится на "доли", неравные по числу слогов (подобно тому, как в тактовой доле число нот может меняться). Стих, таким образом, может и не делиться на стопы, и в тех случаях, где такое деление имеется, античное понятие стопы, по мнению многих, есть излишняя теоретическая фикция. Античная стопа, наоборот, реальна и представляет собой основную метрическую единицу; стих не делится на стопы, а складывается из них (термин "стихосложение" должен здесь пониматься буквально). Самостоятельность стоп сказывается, во-первых, в возможности построений из стоп без стихов (так, в первом из дошедших до нас с музыкой дельфийских гимнов Аполлону 90 пеонических стоп, не образующих метрических единиц высшего порядка), во-вторых, в том, что стих может состоять из неравных стоп. Для теоретиков силлаботонического стиха образцами служили лишь "чистые" размеры (гекзаметры, ямбы и т. п., состоящие из одинаковых стоп), но античная метрика знает множество смешанных размеров из разнородных стоп (в арабской метрической системе - аруз - из 19 основных размеров только 7 чистых, остальные смешанные).
В тоническом стихосложении также возможны стихи с постоянными ударениями на определенных слогах в каждой строчке, но с неодинаковыми промежутками между ударениями (например, с ударениями на 2-м, 5-м и 7-м слогах), но при этом для деления на стопы нет никакого критерия (указанную строчку с одинаковым правом можно представить в виде двух амфибрахиев и хорея, амфибрахия и двух ямбов, двух ямбов и анапеста между ними). В позднеантичной метрической теории, отделившейся от музыкальной основы стиха, вопрос о границах стоп в логаэдах мог вызывать споры, но сами эти споры указывают, что вопрос не был лишен смысла. Античная стопа была реальной музыкально-ритмической единицей, для нее существенно не наличие опорной точки для отсчета, а определенное соотношение двух частей, несущих ритмические функции арсиса и тезиса.
Повторение, служащее единственным критерием членения на стопы в новом стихосложении, часто представляется основным признаком и других метрических единиц стиха (строки) и строфы. В повторении определенной ритмической формы с различными текстами яснее всего обнаруживается заданность этой формы, ее существование до того, как в нее был вписан тот или иной текст. Однако традиционная метрическая схема (например, сонет или античный дистих) узнается и в единственном числе, традиционность заменяет повторность. В метрическом стихосложении, где метрические единицы всех уровней больше и сложнее соответствующих единиц ритмического стихосложения, эти единицы образуются соотношением частей, большей частью неравных. Так же, как стопа может состоять из неравных арсиса и тезиса, а стих - из неравных стоп, античная строфа обычно строится из стихов разного метра. При отсутствии в античном стихосложении рифмы сопоставление различных метров служит основным средством группировки стихов в единства высшего порядка. В предельном случае возможны построения из разных строф, как, например, монодии, или "арии", в трагедиях Еврипида, где нет обязательных повторений ни одной из метрических единиц. Такие построения, однако, не приближаются к прозе, где "есть ритм, но нет метра", наоборот, метр как система временных пропорций выступает здесь в наиболее усложненном виде и все членения определяются не смысловыми и синтаксическими границами, а звуковой "архитектурой", в которую вписывается словесный текст.
Речевому стиху, не связанному с этой "архитектурой", такие сложные формы метра недоступны. При отсутствии обязательных повторов метрическое задание стирается и возникают особые формы "свободного стиха" (верлибр) или "свободные ритмы" (freie Rhythmen), в которых можно видеть промежуточную ступень между прозой и стихами. Сам термин "свободный стих" представляется противоречивым, ибо указывает на свободу от метрических норм, обязательных для стиха и отличающих его от прозы. Однако именно в свободном стихе особенно наглядно выступают те черты "ритмического" стихосложения, которые противопоставляют его метрическому стихосложению.
Основное различие заключается в том, что в метрическом типе движение, или течение, стиха (его ритм, выражающийся в смене арсисов и тезисов) целиком определяется устойчивой формулой временных соотношений (метром), где ударения и границы могут не зависеть от словесных акцентов и синтаксических членений; в ритмическом типе именно эти речевые акценты и границы создают ритм стиха, а устойчивая метрическая формула лишь видоизменяет его. Метрические единицы во втором типе представляют собой идеальные схемы речевых единиц: стопа - идеальная схема слова (акцентной группы), стих - интонационной группы. Форма этих единиц в большей степени обусловлена природой языка, чем художественными требованиями. Разнообразие размеров, связанных с определенными поэтическими жанрами (в античной поэзии во многих случаях размер служил основным признаком жанра), в Новое время сильно ограничивается. В ряде национальных литератур явно выделяется основной размер, наиболее соответствующий свойствам языка и именно поэтому нейтральный и дающий максимальный простор индивидуальному выражению (для французской поэзии такое значение имел александрийский стих, для русской - четырехстопный ямб). Этот простор возможен потому, что метрические нормы, регулирующие ударения, гораздо менее строги, чем регулирующие долготу. Античные гекзаметры в каждом стихе осуществляют одну и ту же схему (которая, впрочем, допускает в определенных местах замену двух кратких слогов одним долгим). В русских четырехстопных ямбах "идеальная схема" реализуется лишь приблизительно в 25 процентах случаев. Тоническая схема указывает места, где могут, но не обязаны стоять ударения; в ямбическом размере словесные ударения стоят на четных слогах, но не каждый четный слог должен быть ударным. Более того, с определенными ограничениями возможны словесные ударения там, где в соответствии с размером должны быть неударные слоги (неметрические, или сверхсхемные, ударения). Таким образом, возможны значительные расхождения между метрической (теоретической, "идеальной") акцентуацией и реальными (словесными) акцентами, в значительной мере создающими ритмическое разнообразие в пределах единообразно выдержанной схемы размера. Если в квантитативном стихосложении понятия ритма и метра почти сливаются, то в акцентных системах Нового времени они часто противопоставляются (Андрей Белый даже прямо определил ритм как "отступление от метра"), и такое противопоставление находит себе аналогию и в теории музыки.
Ритм в этом смысле представляет собой ту область ритмической "игры", которую "правила игры" (метр) оставляют свободной. Кроме реальной акцентуации, в эту область входят границы между акцентными группами (словоразделы) и паузы между интонационными группами. Последний момент особенно существенен. Деление на интонационные группы лежит в основе ритма прозаической речи, и оно же регулируется метром в речевых системах стихосложения. Счет слогов и ударений служит лишь для определения места обязательной паузы, то есть является мерой заданной величины интонационной группы. Стих в качестве построенной по определенным правилам модели интонационной группы становится в Новое время основной метрической единицей, с которой соотносятся другие единицы: стопа - доля стиха, строфа - группа стихов.
Обязательные межстиховые паузы не исключают смысловых пауз внутри стиха, которые, как правило, не должны быть более значительными, чем межстиховые паузы, однако это правило может быть и нарушено. Нарушения ("переносы", чаще обозначаемые французским термином enjambement) создают специфический эффект конфликта между смысловым и метрическим членением (чуждый античному стиху).
Преобладание в ритмическом стихосложении Нового времени смыслового фактора над метрическим породило характерную для театра XIX века манеру читать стихи как прозу, не обращая внимания на размер. Недостаток здесь заключается в пренебрежении метрической фразировкой, а не метрической акцентуацией, подчеркивание которой (скандирование) для правильного чтения стихов отнюдь не требуется. Свободное обращение с длительностью слогов и стоп, образец которого мы видели у Чайковского (см. нотный пример 4), не разрушает стих. Наоборот, Даргомыжский в "Каменном госте" прочел пушкинские стихи "по-актерски": Я приняла вас. Дон Диего; только / Боюсь, моя печальная беседа
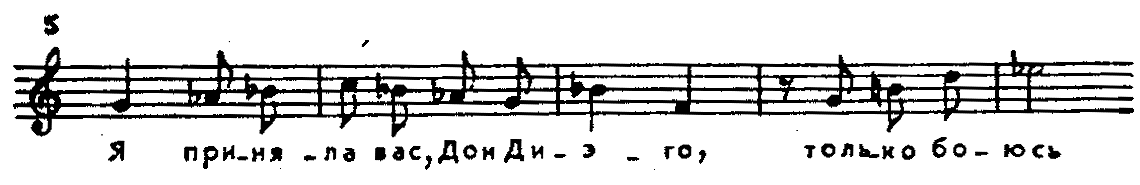
Разделить музыкальную фразу в соответствии с пушкинским делением на строчки здесь, очевидно, невозможно.
В произведениях устной поэзии расстановка стиховых "знаков препинания", то есть деление на строчки и их группировка в строфы, может иногда допускать колебания (например, испанские народные романсы могут быть записаны в виде 8-сложных строк или же в длинных 16-сложных строках, равных двум коротким). Но когда поэты уже пишут, а не поют свои стихи (а именно на этой стадии возникают акцентные формы метра), деление на строчки непосредственно выражает авторский замысел. Возможность выразить этот замысел особыми графическими средствами дает нам ключ к пониманию предельного случая ритмического стихосложения - свободного стиха.
В поэзии Нового времени, где правильность ценится не очень высоко и где в стихе привлекает ритмическая игра, а не "правила игры", возникает стремление к "игре без правил" и рано или поздно появляются стихи, отличающиеся от прозы только стиховыми "знаками препинания", которые создают установку на стих, заставляют читателя почувствовать, несмотря на отсутствие определенной меры, наличие ритмического намерения, членящего текст независимо от синтаксического строения и даже вопреки ему. Именно в результате наблюдений над свободным стихом польская исследовательница М. Гжендзельска пришла к формуле: "стихосложение - это возможность переносов" ("versifier c'est pouvoir enjamber") (Grzedzielska M. Les tendances a attenuer la distinction entre le vers et la prose. - In: Poetics, Poetyka, Поэтика, I. Warszawa, 1961, р. 292), графически выраженное ритмическое намерение, способное вступать в конфликт с синтаксисом, делает ощутимым ритм ("течение") речи и тем самым динамизирует ее, выполняя, таким образом, ту же функцию, что и размер в ритмических системах стихосложения.
Противопоставляя в общих чертах два типа литературного стихосложения, мы должны помнить, что в каждом типе возможны отклонения, сближающие этот тип с противоположным. В новой поэзии ряду направлений (в первую очередь классицизму) свойственна тенденция усиливать размеренность и правильность, в других направлениях проявляется противоположная тенденция (ее можно назвать в широком смысле романтической) к ослаблению метрических норм, вплоть до обращения к свободному стиху, и к динамизации самого метра. Эти различия необходимо принимать во внимание при рассмотрении аналогичной трансформации метра в музыке нового времени.
Ну и далее по тексту :
:
Последний раз редактировалось Georg; 18.04.2006 в 13:25.
 Тактовая система музыкальной ритмики
Тактовая система музыкальной ритмики
Еще одна развернутая цитата из
.................................................. .....................
В музыке возможны одновременные синкопы во всех голосах, так что метр оказывается вообще не выраженным в звучании. В этих случаях метрические опоры могут ощущаться благодаря инерции, однако иногда существование такой инерции сомнительно и даже просто невозможно. Так, уже у Бетховена метрические опоры иногда отсутствуют в самом начале произведения (или его раздела в новом темпе), где никакой ритмической инерции еще не могло возникнуть, как в квартете ор. 133 (начало и второе Allegro после Meno mosso e moderato) и в финале Девятой симфонии:
муз. прим. .
Такого рода начала мы встречаем довольно часто у Листа (соната h-moll, "Прелюды", "Фауст-симфония", "Сонет Петрарки" Е-dur). Метр, вначале лишь воображаемый, здесь постепенно реализуется, но в увертюре Шумана "Манфред" отсутствует и такая реализация post factum: три синкопированных аккорда в первом такте отделены от последующего ферматой и переменой темпа:
муз. прим. .
Слушатель, не знающий партитуры и не видящий дирижера, конечно, не может догадаться об отношении этих аккордов к такту. Такт в этих случаях существует "только на бумаге", но он служит авторским указанием исполнителю, который доносит музыку до слушателя. Как специфически музыкальный метр, такт принадлежит той эпохе истории музыки, когда композитор, как и поэт, стал писателем, а не певцом. Музыкальное и поэтическое произведение существует и помимо того или иного исполнения, и нельзя ставить знак равенства между написанным текстом и его звуковым воплощением. В новой поэзии и музыке реально звучащий ритм нередко прямо противопоставляют метру, который принадлежит тексту. Во французском энциклопедическом словаре Литтре говорится, что ритм существует только будучи услышан,. метр существовал бы и для глухого, знающего его условное значение.
Деление на строчки или такты - графическое выражение авторской ритмической установки, которую поэт или композитор предписывает исполнителям своих произведений. Тактовая черта указывает не акцент (для этого в нотном письме имеются другие обозначения), а его нормальное положение; тем самым она определяет характер реальных акцентов - нормальный или же смещенный.
Это относится, конечно, не только к главному ударению такта, но и к метрической акцентуации внутри такта. Различие между размерами 3/4 и 6/8 определяется тактовым обозначением, а не ритмическим рисунком музыки; без этого обозначения мы бы не могли определить, где находятся метрические опоры, например, во вступлении и романсе из Четвертой симфонии Шумана, а от этого здесь зависит весь характер музыки. Реальная акцентуация и группировка иногда прямо противоречат метру, и уже Берлиоз предостерегал дирижеров от деления текста не по тактовым долям, а по акцентам, что было бы, по его словам, "плоской переменой размера" вместо интересного ритмического эффекта. Берлиоз видит в этом одну из самых грубых стилистических ошибок, какую может совершить дирижер в тактировании (См.: Берлиоз Г. Большой трактат о современной инструментовке и оркестровке. М., 1972, т. 2, с. 515).
Эту ошибку совершали многие теоретики, "исправлявшие" авторское деление на такты и приводившие его в соответствие с музыкально-смысловой акцентуацией, упуская из виду особый, предписанный характер метрической акцентуации. Такие исправления часто исходят из предпосылки, что авторы как бы по инерции сохраняют неизменный размер там, где "на самом деле" он меняется. Так, в скерцо из сонаты b-moll Шопену, по мнению некоторых авторов, ряд тактов 3/4 следовало бы заменить тактами 2/4:
муз. прим. .
Но, конечно, Шопен не указал здесь перемену размера не по лени или небрежности. Мнимые "такты" 2/4 явно воспринимаются на фоне сохраняющегося представления о трехчетвертном такте как ритмический диссонанс, который может разрешиться лишь в момент совпадения сильного времени настоящего и ложного тактов. Ложные такты поэтому необходимо группируются в "трехтакты", соответствующие в действительности двутактам.
Непонимание ритмических диссонансов приводит к тому, что вторую тему финала фортепианного концерта Шумана рассматривают как сочиненную в размере 3/2 (См.: Wiehmayer Th. Musikalische Rhytmik und Metrik. Magdeburg, 1917, S. 173, 194):
муз. прим. . [...]
Ясно, что более "плоскую перемену размера" трудно придумать.
У Шумана [...] мы имеем здесь дело с ритмическим рисунком, очень характерным для вальса. Тетцель (который сам неоднократно допускал произвольные изменения авторского деления на такты) в теме из шумановского концерта справедливо видит конфликт мотивного строения и такта и сопоставляет эту тему с мелодией обычного вальса (вальс Ардити "Il Baccio") (Tetzel E. Rhytmus und Vortrag, S. 44-45):
муз. прим. .
В качестве близкого примера можно было бы привести и мелодию вальса из "Фауста" Гуно:
муз. прим. .
Такие мелодии, даже сыгранные или спетые без аккомпанемента, не воспринимаются в размере, ибо и в этом случае характер их исполнения определяется соотнесением с воображаемым аккомпанементом. К такому "воображаемому ритмическому аккомпанементу" во многих случаях сводится метр, в том числе и в теме из концерта Шумана, а также в начале Третьей симфонии того же Шумана, Третьей симфонии Брамса и др. Не реализованный в звучании, метр здесь все же сохраняется в представлении как второй план, без которого конфликтный ритм превращается в "плоскую" перемену размера.
Возможность такого воображаемого метра, даже не поддержанного ритмической инерцией, обусловлена простотой, отличающей тактовые схемы от квантитативных метров. Полиметрия, достигающая в некоторых видах квантитативной ритмики (например, в индийской) большой сложности, в тактовой ритмике встречается в исключительных случаях, которые большей частью могут рассматриваться как выпадающие из этой ритмической системы. Обычно такт представляет собой однообразно повторяющуюся акцентную схему, на фоне которой возможны разнообразные изменения ритмического рисунка. Это не исключает перемен размера (того, что в стихах иногда называют полиметрией), но если в квантитативной ритмике неравенство метрических единиц говорит об усложнении метрического задания и тем самым об усилении метрического фактора, в тактовой музыке нарушения постоянного размера свидетельствуют скорее о его ослаблении. Частые перемены размера, как в поэме Скрябина ор. 52 № 1, образуют переход к тому, что по аналогии со свободным стихом можно назвать "свободным тактом". Такой свободный метр мы находим, например, в некоторых поздних романсах Рахманинова, где имеется деление на такты неравной длины без всяких обозначений размера. От музыки без размера эти свободные такты отличаются тем, что тактовые черты указывают метрические акценты, которые могут противоречить реальной акцентуации:
муз. прим. .
Как и в свободных стихах, метр здесь сведен к минимуму - к авторской установке, выраженной графическим делением на метрические единицы (строчки в одном случае, такты - в другом) без соблюдения каких-либо правил, смысл которого состоит в создании второго ритмического плана и возможности ритмических диссонансов - enjambements в стихах и синкоп в музыке.
Последний раз редактировалось Georg; 20.09.2006 в 10:11.
 Re: Тактовая система музыкальной ритмики
Re: Тактовая система музыкальной ритмики
Не все так однозначно: некоторые (и кстати, очень распространенные в поэзии) "длинные" метры были просто составными из простых (аналогия - "составные" интервалы типа октавы с квартой или октавы с квинтой).Сообщение от Харлап
Насчет "арий" у Еврипида - это довольно круто. Может быть, попробовать расссудить об этих обрывках (кстати, уже опубликованных во времена Харлапа) как о документах? Посмотрите, что в действительности осталось от Еврипида в антологии Пёльмана (субфорум "Старинная музыка", я там выложил ее в электронном виде).Сообщение от Харлап
Офтоп: Сорри, но у меня в первом месседже графика вовсе не показывается, а во втором изображения непомерно гигантские. Нельзя ли как-то это подрулить? (Харлап того стоит, вне всякого сомнения).
А у Вас есть электронная "Ритмика Бетховена"? И вообще, может быть, продолжить эту тему в разделе "Публикации о музыке"?
...perversi difficile corriguntur et stultorum infinitus est numerus...
 Re: Тактовая система музыкальной ритмики
Re: Тактовая система музыкальной ритмики
Olorulus,
тут нужна помощь Бориса - сам я ни "подрулить" графики, ни перенести тему в другой раздел не смогу. Электронного варианта "Ритмики Бетховена" у меня, увы, нет.
.........................
Неточности и "далековатые сближения" Мирона Григорьевича - разговор особый, тут можно много чего накопать. Есть вроде бы даже одна дипломная, где его "заусеницы" подробно рассмотрены. Тем не менее - обожаю дедулю.
 Re: Тактовая система музыкальной ритмики
Re: Тактовая система музыкальной ритмики
Борис тут ни при чем. Надо просто обработать изображения в "Фотошопе" (или подобной программе) и перевыложить их на др. сервер - будет и красиво и удобно читателю.
===
Харлап заслуживает обсуждения - особенно его концепция метра. Вкратце, я убежден, что метр (ритм в периоде) существовал всегда, в т.ч. у греков и уж подавно в средние века (модальная ритмика 13 в.).
Понятие такта, традиционно связываемое с метрической экстраполяцией, тоже вполне может быть расширено на явления, не связанные с такой экстраполяцией. Как музыканту, "такты" в музыке 12-13 в. (Летний канон, клаузулы Перотина) мне совершенно очевидны. Хотя сказать такое без долгих предварительных разговоров - "скандал", я отдаю себе отчет.
...perversi difficile corriguntur et stultorum infinitus est numerus...
 Re: Тактовая система музыкальной ритмики
Re: Тактовая система музыкальной ритмики
Olorulus, так ведь все давно выложено: , и графики там в норме. В связи с той или иной дискуссией на форуме я просто вытаскиваю оттуда цитаты и даю ссылки на соответстующих потоках, как вот вчера на потоке "Как учат сочинять в консерваториях". А целиком пусть уж форумляне читают на aposition.
 "Друзья и годы"
"Друзья и годы"
Голосом 60-х: "Это быыыыло недавно, это было... давно!"
"Апозиция" позаимствовала статью с сайта , а там лежит действительно уже несколько лет.
Эх, Olorulus, все не молодеем. Обе ссылки даны в первых постингах на этом потоке (на abuss - в #1, aposition - #2). Вот и Гузаль уже называет себя "бабулькой" по причине старческой невнимательности... Греческие падежи перепутала. Да и я от дряхлости все забываю выполнить давнее обещание сравнить редакции MGG. Может, Нечастого попросим? Он теперь уже не Ник "То", а Кое-кто.
Если серьезно, я был уверен, что у Вас сборник "Проблемы ритма" есть дома - там ведь и статьи Юрия Николаевича, и Михаила Александровича (Сапонова), и Валентины Николаевны. Кстати, в статье этого сборника Юрий Николаевич находит подобие тактов (и даже тактов высшего порядка - если я по старости лет не запамятовал) в знаменном распеве. Терминологически это мне не близко, но если найти другой термин для данного явления, то...
Я ведь и теорию квантитативного метра, как она виделась Харлапу, могу принять только с серьезной модификацией. Наиболее ценным у МГ мне представляются замечания как раз по классической тактовой ритмике и его теория "интонационной стопы" (которую, надо признаться, большинство из ссылающихся на Харлапа перевирают). В книге Апфеля-Дальхауза (APFEL Ernst, DAHLHAUS Carl, Studien zur Theorie und Geschichte der musikalischen Rhythmik und Metrik, München: Katzbichler, 1974.), полемизирующих с Риманом, понимание такта весьма близко тому, что писал Харлап. В вопросах тактовой ритмики Харлап в большой степени ориентировался на собственный опыт исполнения музыки (он ведь в молодые годы даже в БЗК солировал с 1-м концертом Чайковского), ее "проживания", "формования".
В вопросах же квантитивного метра Мирон Григорьевич пользовался источниками, к его времени достаточно сильно устаревшими. Там не все неверно, но специфику ЖИВОГО исполнения квантитативной ритмики (того же аруза, например) они не учитывают. Харлап не пропустил квантитативную ритмику сквозь свой слух и двигательно-мышечный аппарат (хотя были у него знакомые, пытавшиеся приблизить к нему эту ЖИВУЮ традицию), в связи с чем он слишком разъединил "квалитативный" и "квантитативный" типы ритмической организации. Мне близко мнение другого исследователя (Александра Кудрявцева, автора диссертации о ритмике канта): интонационностопность, квантитативность и акцентность, если уж пользоваться терминами Харлапа, - это своего рода ПОЛЮСА, МЕЖДУ которыми находятся реальные музыкальные артефакты. Близость к одному не означает полного отсутствия других. Stichwort: дифференциация функций этих начал ритмической организации в системе ЕДИНОГО хроноартикуляционного процесса. У Харлапа эта мысль намечена, но не развита.
Поэтому я могу понять и принять Вашу мысль: "Как музыканту, "такты" в музыке 12-13 в. (Летний канон, клаузулы Перотина) мне совершенно очевидны." Вы ставите слово "такты" в кавычки, и я выше о том же: "если найти другой термин для данного явления, то..." - то мы сможем, избегая перенесения понятий позднейшего времени на музыку предшествующего, таки найти то ОБЩЕЕ, что у них есть.
.........................
"Ритмику Бетховена" я, конечно, могу заказать в библиотеке и здесь выложить. Но неужели сборника "Бетховен. Сборник статей / сост. Н.Л. Фишман. М., 1971" нет в МГК? Или Лидский его забрал и не отдает?


- Регистрация
- 10.09.2002
- Сообщений
- 989
 Re: "Друзья и годы"
Re: "Друзья и годы"
Георг, не волнуйтесь. На след. год мои мощи уже выходят на пенсию.Столько времени появится, что вплотную займусь своей старческой невнимательностью.
За ссылку Вам и вправду спасибо! Я там СТОЛЬКО нашла! Я чуть со стула не грохнулась... Стул тоже обрадовался и у него от счастья ножки подвернулись.
 Re: Тактовая система музыкальной ритмики
Re: Тактовая система музыкальной ритмики
Вот как надо привлекать внимание к проблемам тактовой ритмики. Написать всяких небылиц о форумлянах и форумлянках, да побольше, побольше - тут они все и появятся. Может, прочитают чего толкового "в нагрузку". Если, конечно, на стуле усидят...
Похожие темы
-
Sibelius Сплошная тактовая черта в Sibelius
от Raabi_Ihor в разделе Нотный наборОтветов: 2Последнее сообщение: 08.08.2014, 21:40 -
Sibelius Пунктирная тактовая черта
от baresi в разделе Нотный наборОтветов: 1Последнее сообщение: 24.04.2011, 08:16 -
Finale: групповая тактовая черта
от Pavelinho в разделе Нотный наборОтветов: 16Последнее сообщение: 06.08.2009, 16:11 -
Тактовая черта
от Acousticboy в разделе Нотный наборОтветов: 1Последнее сообщение: 08.01.2008, 21:02





 Ответить с цитированием
Ответить с цитированием






Социальные закладки